Выпуск №7
Автор: Евгений Никитин

Краткий экскурс в историю. После объявления премиального листа «Поэзии» я начал вывешивать в фейсбуке мини-рецензии на стихи, желая привлечь внимание к замечательному проекту, в котором фокус смещается с репутации того или иного автора на текст его стихотворения. Мне казалось это важным. Кроме того, я обрадовался хорошему поводу наконец сказать, что хорошо, а что плохо в современной поэзии с моей точки зрения; как стихотворение становится живым и как оно умирает. И мне кажется, худо-бедно мне удалось намекнуть на это за 20 коротких отзывов на стихи.
Но как быстро выяснилось, главное в современной поэзии и критике – корпоративная лояльность. Я ее – нарушил. Как правительству не хочется, чтобы его поругивали, так и литературная институция не может этого стерпеть. Критику текстов она относит на свой собственный счет, потому что для институции стихотворения – просто побочный продукт ее работы. Нужна только иллюзия полемики, когда все участники процесса нахваливают друг друга и важные вещи не проговариваются. И – внешний враг, чтобы недовольство направить на него, какой-нибудь «новый Топоров» или целые группы вроде злобных «верлибристов», «феминисток» или, наоборот, «традиционалистов». И неудивительно, ведь нынешняя литературная ситуация сформировалась именно при текущей политической системе.
Рецензии эти писались наспех и были, строго говоря, непрофессиональными, но дали мне возможность что-то проговорить и показать, что разговор о текстах, а не об авторах, возможен, и ничего страшного не произойдет, если мы, участники литературного сообщества, позволим себя вовлечь в такой разговор вместо сплетен и дележа символического капитала. Я бы хотел видеть какое-то его продолжение, особенно в исполнении профессионалов, хотя больших надежд не питаю. Мне хотелось, чтобы возникла новая неравнодушная творческая среда, в которой стихи не попадали бы в вакуум и вокруг них возникала бы полемика. Пусть такая среда – утопична. Но где еще строить утопию, как не в литературе? Хотя бы на короткое время. Так мы победим энтропию персоналий и символических капиталов и вернем текст в центр литературного процесса.
Публикация этих рецензий в «Артикуляции» – своего рода эксперимент, потому что рецензии вытащены из своего интерактивного формата, в котором комментарии и споры коллег по социальным сетям являются неотъемлемой частью совершающегося события и часто превосходят по содержательности спровоцировавший их текст.
Из соображений авторских прав мы не будем цитировать стихи целиком, как я делал в фейсбуке. Вот здесь можно посмотреть все стихотворения, выдвинутые на премию «Поэзия» в номинации «Стихотворение года».
http://poetryprize.ru/wp-content/uploads/2019/09/Стихотворение-года.pdf
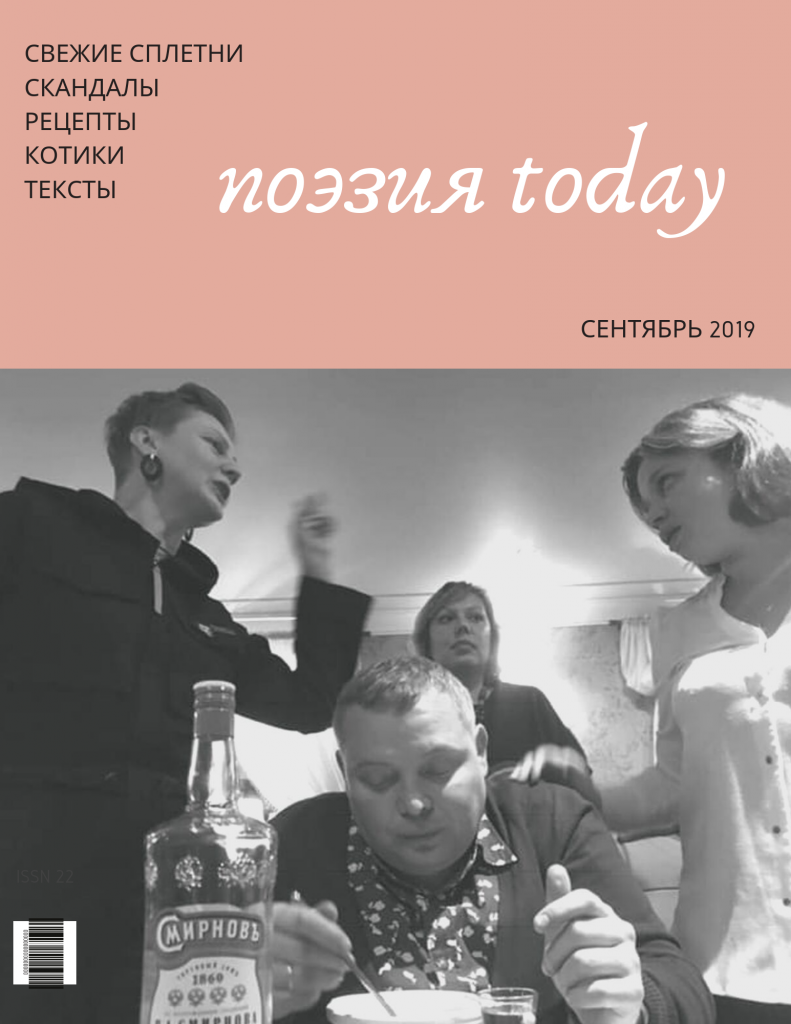
(автор фото — Андрей Гришаев)
1.
Итак, начнем. Пойдем по порядку. Богдан Агрис, стихотворение памяти Олега Юрьева. Первая строфа действительно напоминает Юрьева (и Поплавского), и это для меня безусловный плюс, особенно хорош внезапный «оконтуренный стерх», цветущий на ясене. Весь этот произвольный сюрреализм работает безупречно, когда он действительно очерчен, оконтурен, то есть его существование не нуждается в каком-то сюжетном обосновании – оно оправдано чистотой звучания.
Стоит на городах огромная прохлада.
По устиям Луны мы выплываем вверх.
На ясене цветёт оконтуренный стерх:
Всё это — явственно, и света мне не надо.
Но дальше возникает Мандельштам, сходящий в травы ветреные, «в сланце и труде», и он, на мой взгляд, настолько неуместен и комичен, что стихотворение рушится в околопоэтический словарь, и то, что в нем нравилось, начинает казаться мыльным пузырем, который лопнул. Херувим с крылами, экзальтированно подметающий «всё, что было мной, тобой, а также им» просто нелеп.
Итого: интонационный слом после первой строфы сразу делает текст слишком «поэтическим» – можно представить, как его читает какая-то литературная примадонна с избыточно пафосной интонацией в голосе.
В результате я, однако, почитал Богдана Агриса в Журнальном зале и очень доволен: в жунале «Волга» прекрасная подборка, где почти каждое стихотворение очень интересно, например, вот отрывок из «Двустиший»:
Ты мне даёшь обернуться, всмотреться и быть.
На городах корневые вспухают грибы.
На световых, обнадёженных, пухлых корнях
Время стояло, а после встревало в меня.
Полно, – не вереск, не смута, не сон корневой.
Время меня с корневищ отрясает с лихвой.
Что бы то ни было – но по околице лес.
Видит меня, отрицает меня наотрез.
Существенная черта стихотворений Богдана Агриса одновременно является их слабостью и силой: стремление к некой барочной, метареалистичной образной избыточности, что чаще автору удается. Зато если не удается, то получается «стихотворение вообще». Выбор номинатора я не могу одобрить, но это – на мой вкус.
2.
Текст Нины Александровой мне показался малоинтересным. Сделана попытка передать ужас от столкновения с ОМОНом на митинге в очень жаркий день. Физиологическое ощущение духоты и клаустрофобии рифмуется с духотой и клаустрофобией российской политической ситуации. Однако мне кажется, это не стихотворение: вроде бы сделаны все необходимые движения, приняты нужные позы, предприняты шаги, но стихотворения – нет. Я хочу сказать, что оно, на мой взгляд, исчерпывается своим кратким содержанием и не поднимается над совокупностью сказанного, над перечнем фраз, перечислением ощущений. Каски не превратились в гальку, звук вертолета не стал гудением моря. Это только сказано. Какого-то поэтического события здесь для меня не произошло (Нина, пожалуйста, не сердись).
3.
Поэма Ростислава Амелина занимает 11 страниц. Впрочем, особого вреда от текстов такого объема в премиальном списке я не вижу. Объем не добавляет каких-то бонусов, наоборот, герой тот, кто дочитает его до конца и не проклянет. К сожалению, навыки чтения таких текстов практически утрачены – для нас вызовом является уже то, что превышает размер экрана мобильного устройства. Ростислав Амелин пишет не стихотворение, а священный текст, предназначенный словно для какого-то таинства. Здесь дается набросок целого эпоса библейского масштаба при этом с интонацией, скорее, застенчивой. На этом контрасте интонации и масштаба возникает что-то интересное, какой-то огонек, который позволяет продолжать этот текст читать. Здесь разворачивается целая мифология с божествами, героями и локациями.
Это заявка на российского Паунда и Уитмена. Примерно так выглядят все тексты Ростислава последнего времени, кроме того, на их основе он пишет оперы и рисует комиксы. В общем, если кто и революционирует русскую поэзию и раздвинет ее границы, так это, наверное, именно он – если , конечно, справится. Потому что пока у меня есть ощущение, что масштаб превосходит возможности – но, может быть, это и правильно (я звучу немного как Васисуалий Лоханкин с его сермяжной правдой). Какого-то чувственно-образного впечатления у меня от текста нет, есть восхищение замыслом. Кто-то скажет, что это графомания, бедный и угловатый язык – но я подозреваю, что Ростислав Амелин намеренно отказывает нам в привычно-поэтическом. Достаточно ли он при этом дает взамен – мне пока неочевидно.
4.
Поговорим про стихотворение Ольги Аникиной «Стекло». Меня подкупает благородная интонация этого белого стиха, в котором простой сюжет о том, как внешнее заслоняло внутреннее, неожиданно сворачивает в какую-то другую сторону. Это стихи негромкие, но исполненные достоинства.
Тем не менее, у меня было много сомнений, когда я только увидел их, и эти сомнения я хочу проговорить. Вот вроде бы феминистская история о том, как женщине мешало ее красивое тело, из-за которого она подвергалась объективации, но ритм стихотворения и его пластика столь традиционны, что кажется – тут какое-то противоречие содержания и формальных средств. Упаси боже мне учить кого-то феминизму, но, скажем так, в моем восприятии это – левое движение, которое требует в формальном плане каких-то – да, новых логик письма. Немного странное рассуждение с моей стороны, я же сам в соцсетях иронизировал над «новой логикой письма». Но именно в таком сюжете с отрезанием у женщины бровей, века, щеки и части носа ждешь какого-то другого языка.
Это сомнение я разрешить не смог. Но, может быть, я неверно прочитываю стихотворение, и оно не зря в конце говорит о любви к хрупкости. Вдруг это не про слом объективации, а про интеллигентскую любовь ко всему беззащитному, хрупкому, как у Тарковского-режиссера, как у Окуджавы… как само это стихотворение. То есть оно на самом деле о поэзии, о том, как поэт стряхивает образную мишуру, чтобы сфокусировать внимание на главном. То есть об аскезе поэзии – и эта аскеза поэзии свойственна стихотворениям Ольги Аникиной – я убедился в этом, прочитав несколько ее подборок. Да, я впал в грех инсинуаций/интерпретаций.
С этими сомнениями я даже пришел к герою моих рассказов о папе. Точнее, я пришел без повода, но весь в мыслях об этом стихотворении. Я открыл его на папином компьютере, и что сделал папа? Он начал петь вот этот отрывок на манер бардовской песни на пять аккордов:
Когда ж я что-то говорила –
я говорила очень мало,
меня почти никто не слушал.
Но вдруг случилось кое-что.
Всему виной настенный шкафчик
с непрочной дверцей из стекла.
Он много лет висел на кухне,
и странно, что никто не видел,
как вдоль поверхности стеклянной
мелькнула трещина.
И вот.
Этим «и вот» папа завершил мелодию и провозгласил: «Это что-то бабье!» (позднее, посмотрев другие стихи, он признал, что они хороши). Эта сцена, за описание которой я прошу прощения у читателей и лично у Ольги Аникиной, меня укрепила в том, что эти стихи родом все-таки из поэзии и бардовской песни 60-80, а не «актуальной поэзии» 2010-х. Это ни в коем случае не минус, но как-то помогает их понять.
Мне, повторюсь, импонирует их естественная разговорная интонация, и я думаю, что это – хорошее стихотворение. Тем не менее, мне сложно представить его лауреатом премии «Поэзия», прежде всего из-за того, что оно по своему тонкому и камерному характеру не демонстрирует авторскую поэтику в той мере, в которой это необходимо. Я благодарен номинатору за знакомство с поэзией Ольги Аникиной – мы сидели вместе с папой и читали ее стихи из разных подборок, и я увидел важную для себя вещь – эти стихи одновременно могут вызвать восхищение у меня, человека относительно искушенного в современной поэзии, и у человека, от нее далекого.
5.
Еду в электричке на работу и пишу прямо в приложение фейсбука. Примерно 70% моих текстов именно так и появились на свет. Передо мной стихотворение Анны Аркатовой. Я крайне разочарован. Ну да, технически безупречный текст демонстрирует на короткой дистанции арсенал профессионального автора «постакмеистического» направления (как это любит обозначать Дмитрий Кузьмин), к которому, вероятно, принадлежу и я сам, во всяком случае, когда пишу силлаботонику. Тут и плотность стихового ряда, и уместность каждой рифмы и вот эта любовь к особой незатертой лексике, мелким вещам – здесь это «титя», у меня были бы какие-нибудь непременные «мышки», «крыски» и прочая живность. И за всем этим виднеется фигура аскетической поэзии Михаила Айзенберга. Но, к сожалению, все это потрачено на какой-то совершенно ничтожный повод. Что-то из рубрики «популярная психология» журнала «Работница». У Анны Аркатовой, мне кажется, есть более интересные тексты.

6.
Текст Дмитрия Бака, выдвинутый на премию, очень типичен для него. Все, что мне когда-либо попадалось из его публикаций, было похоже примерно на это, словно Бак пишет одно бесконечное нудное стихотворение.
Снова подчеркну – ничего личного. Но подобный уровень спутанного многословия утомляет невероятно. Единственная хорошая строчка – «младенец плещет, как пароходик» – но из этого нужно делать другое стихотворение.
Вчера я ставил опыты на папе, а сегодня показал стихи коллегам по работе во время ланча (надеюсь, это не преступление). Вердикт: «Слова подобраны специально так, чтобы было тяжело это читать.» Соглашусь! Существует и такое представление о современной поэзии: она непременно должна быть неудобочитаемой, чтобы отделиться от профанной аудитории. Стихотворение как бы обращается к своим – но к кому? К филологам, поэтам из академических кругов? К аппарату «Энигма»?
Такое ощущение, что Бак имитирует так называемый «эзопов язык», с помощью которого при советской власти писатели обходили цензуру. Что-то говорилось, но имелось в виду совершенно другое, и вот так, тайнописью автор проговаривал что-то важное и запретное. Баку обходить цензуру не нужно, да ничего оппозиционного он сказать и не пытается. Получается псевдоэзопов язык, он сводится просто к причудливой манере письма.
Если поэзия – лучшие слова в лучшем порядке (устаревшая, но популярная мысль), то здесь слова из походной поэтической аптечки (всякие «младенцы», «ветры», «вздохи» и «огоньки») в полном беспорядке. Причем именно слова. Слова, слова, ничего более.
7.
Переходим к Вадиму Банникову. Сегодня в социальной сети Вконтакте появился некий аноним, который дал каждому стихотворению из премиального списка «Поэзии» по краткой характеристике, в том числе по поводу многих заметил «написано нейросетью». Но почему-то не поводу этого текста, а ведь как раз он написан как бы человеком-нейросетью – так как метод письма Вадима Банникова, по его собственному описанию, в принципе аналогичен работе нейросети, но очень продвинутой. Он просто бесконечно порождает тексты конвейерным методом, черпая из обломков на глазах возникающей речи и структур собственной литературной памяти. У него принципиально нет «хороших» и «плохих» стихов, есть демонстрация речепорождения.
Здесь смысл возникает ровно так же, как рисунки, которые наш мозг собирает из щербинок на стене. Подборки Вадима в журналах или в форме книг суть продукты насилия, искусственного отбора текстов, случайно кажущихся осмысленными высказываниями. Из большой массы можно подобрать тексты так, что вроде бы они будут что-то сообщать. Вадим Банников и составители его подборок таким образом проблематизируют существование смысла как такового. Как он возникает? В какой момент? Как работает отбор? Когда «включаются» наши представления о «поэтическом»? Какой текст воспринимается как осмысленный и почему? Этот эксперимент – важный и необходимый.
Но здесь текст одинок, выключен из контекста творческого метода Банникова. Включение такого текста в премиальный список – тоже эксперимент. Сможет ли он конкурировать с «обычными» стихотворениями, в которых автор еще не умер и обладает интенцией, поэтикой, позицией?
Оказывается, сможет. Возникает картинка, есть чувственное впечатление от текста. А что еще нужно? Приведу небольшую притчу, принадлежащую Леониду Костюкову и слышанную мной на его семинаре. Проходят соревнования по ловкому пролезанию под шестом. Шест опускают все ниже, и нужно сильно загибаться назад, чтобы под ним пролезть. Но один из участников – инопланетянин, вообще не обладающий костями. Для него предела гибкости нет вообще. Правильно ли его запускать в такое соревнование? Стихи в определенном смысле тоже обладают костями. Авторская интенция – это кость. Но тексты Вадима Банникова, они могут изгибаться как угодно. Их форма возникает в сознании читающего.
Как-то Дмитрий Пригов говорил, что современной поэзии в привычном понимании больше нет, есть «народные промыслы». Если надо было бы вбить последний гвоздь в ее гроб, то присуждение первого приза Банникову было бы правильным шагом. После этого лавочку можно закрыть и заняться наконец современным искусством и политическим активизмом как более осмысленным применением творческих сил. Самого Банникова можно отлить в граните и показывать на народных ярмарках и гуляньях с непременными историями из его жизни: как он всегда доедал все до конца, как познакомился с печником. Это будет правильно.
8.
Продолжаем разговор – добрались до Полины Барсковой. Долог был путь, но путник награжден. Наконец я встречаю то, что ожидал встретить в премии «Поэзия» – соблазн слова, его физиологию, его магию. При этом мне не то чтобы очень близка поэзия Полины Барсковой: для меня тут слишком слабые связи между словами – их соединяют не кости, а рыхлый, но плодородный гумус. Стихотворение я рекомендую прочитать вслух.
Многие вещи я здесь мелочно не принимаю, «презентабельный», «квази смысл», «вонь лезвия» (или плахи?). А слово «унылозадый» – наоборот, как же хорошо. Но эта поэтика все стерпит. Говорят, если в молдавский чернозем воткнуть палку – она пустит корни и зацветет. А здесь пускает корни любой образ. Получается такой лес слов, в нем легко заблудиться, подчиняясь затягивающему ритму, усыпляющей музыке заклинания. Скорее лес, чем сад, потому что здесь, как говорится, что выросло, то выросло: это поэзия не аполлоническая, а дионисийская.
Этот гипнотический и обманчивый тип поэзии я ожидал встретить, я его – в малых дозах – люблю, и это то, в чем эти стихи нуждаются. Они и сами о любви и как бы впитывают любовь, как упомянутый чернозем – дождевую воду. Но в лесу этого стихотворения можно заблудиться, и стоит выйти на свет, к поэзии более взвешенной, сдержанной и внимательной к своей архитектуре, и судя по именам авторов премиального списка, она нас впереди еще ждет.
Пока это первое стихотворение из встреченных, о котором я могу сказать, что оно могло бы претендовать на победу. Откладываю в личный шорт-лист.
9.
Сейчас мне пришло в голову, что я слишком инерционно отозвался о Полине Барсковой. Получилась, как это называют в баттл-рэпе «комплиментарка». А нужна ли здесь очередная комплиментарка, учитывая, что Полина Барскова и так один из самых безусловных авторов в списке, и не уместней ли было воспользоваться моментом и выразить тревогу? Поэтому удар придется принять Васе Бородину.
Когда пишешь о современных стихотворениях, то есть о материале, не канонизированном литературоведением, и берешь на себя ответственность утверждать что хорошо, а что плохо – поневоле проводишь границу нормы. По одну ее сторону находятся тексты предсказуемые, полностью удовлетворяющие сложившимся эстетическим ожиданиям, а по другую – полностью распадающиеся, несбывшиеся. Поэзия существует точно на границе. Из этого понятно, что граница все время сдвигается. И на ней приходиться балансировать.
Стихи Васи Бородина всегда максимально подходят ко второму краю этой границы и постоянно частично выступают за нее, туда, где еще сплошная бесформица и где поэзии еще нет, а есть только материал для нее.
На этот раз я рискну процитировать текст целиком, так как из-за конфликта, возникшего в социальных сетях вокруг стихотворения Владимира Гандельсмана, Вася снял стихотворение с конкурса.
* * *
печаль бывает изнутри
бывает вся внутри
сидит на краешке земли
на камешке зари
ума бывает далеко
раскинутая сеть
теряет душу-облако
и так всю ночь висеть
над ранним праздничным столом
смиренная оса
качает свой срединный слом
всё время полчаса
на поздних праздничных столах
у лодки лепестка
хромает муравей-феллах
гудит его рука
бывают улицы коров
над ними как старик
прозрачен ветер, нездоров
и внутренне горит
и пыль бывает как тоски
осадок из тепла
когда и дали далеки
и встреча обняла
Ритм «Джона Ячменное Зерно» задает довольно жесткую структуру этим стихам, и расшатывается она свежими лексическими ходами, позволяющими сохранить непосредственность восприятия – повтор «изнутри-внутри», неожиданные «камешек зари» и теряющий «душу-облако» ум. Все очень хорошо. Но потом – бац! – какой-то «срединный слом» в осе. Что это? А «тоски осадок из тепла»? Таких моментов здесь всего несколько, номинатор выбрал осторожно. Пальцы ног Васиных стихотворений часто торчат, выходя туда, где гудит ветер хаоса. Но выбран довольно строгий текст. Где только – такой сквознячок. Ветер хаоса уже отхватил торчащие большие пальцы и кусочек мизинца, но это ничего, такое подбитое стихотворение мы только больше полюбим.
Стихотворению в современной литературной ситуации, характеризуемой большой нетребовательностью, прощается все, а если оно еще обладает и некой долей суггестивности, то сразу возводится в ранг гениального. Это несколько несправедливо по отношению к этому конкретному стихотворению Васи Бородина, но следовало произнести, когда я рассуждал о тексте Полины Барсковой. Пускай повисит здесь.
Одно из очевидных преимуществ такого типа поэзии – это ее ценность для самих поэтов. Они этими стихами могут питаться, расширяя свой горизонт возможного, сбивая себе прицел, так чтобы не писать чисто инерционно. Чтобы продолжать балансировать и чувствовать, когда смещается граница.
Это стихотворение, кажется, одно из лучших у Васи Бородина, оживает заново при каждом прочтении. Напоминает, несмотря на ритм шотландской баллады, кого-то из модернистских австрийцев, например, созерцательную статику некоторых стихотворений Георга Тракля. Все его ходы не затерты и щекочут искушенный слух. Личный шорт-лист, при всех оговорках.
10.
Стихотворение Аллы Боссарт, выдвинутое на премию, вызвало в момент публикации небольшой скандал, в результате чего поэтессу даже забанили в фейсбуке. Волну возмущения по его поводу муж поэтессы назвал «совковой», но, с моей точки зрения, само стихотворение довольно совковое по выбранному ритму – прям так и зазывает нацепить галстук и вступить в комсомол.
Я могу понять, чем оно может нравиться – ровно тем же самым, чем и возмущает – своей кажущейся провокационностью. Стихи Виталия Пуханова играют с такой же эстетизацией провокационности – вспомним стихотворение про блокаду. На этом и строится художественное впечатление. Но в данном (плохом – так я думаю) стихотворении Аллы Боссарт этого приема на самом деле нет, просто общественность буквально прочитала слово «шалавы», явно употребленное в смысле восхищения сексуальностью и мужеством девушек. Такое как бы поэтическое озорство и трансгрессия в обращении с поэтическим словарем – больше ничего, никакой пухановской «прагмагерметики» и намеренного захода в запретные зоны, в травмы – просто камень упал в воду и пошли круги.
Будь текст гениальным, можно было бы спорить о том, что «поэзия – это уже преступление» (А. Тавров), но оно просто никакое – евтушенковская (прямо слышу, как он это читает) приподнято-умилительная декламационность на очень скучной ритмической основе. Крайне надеюсь, что это квадратное стихотворение не получит приз, и если у кого-то я вызвал волну праведного гнева – прошу прощения.

11.
Моя первая реакция на стихотворение Ольги Брагиной была предсказуемой: перед нами очередной вялый мейнстримный верлибр, похожий на сотню других. Но то ли текст не так прост, то ли у меня начинается какая-то аберрация – я стал его перечитывать и находить какие-то интересные нюансы, цвета, черты, и лицо этого стихотворения начало собираться и выступать на свет из темной бесформенной массы, которой представлялось поначалу – и я в конце концов увидел интересную историю.
Попробую пересказать ее и не сбиться, а потом сверим впечатления. В начале героиня сожалеет, что не соответствует гендерной ролевой модели: не варила мужчине борщей, а вместо этого писала стихи – это как минимум трагикомично. Потом стихотворение становится сбивчивым и беспомощным – но это объясняется вербальным бессилием самой героини, которой раньше «хватало слов», а теперь «они закончились». И тут она внезапно обнаруживает, что то ли сама находится в психбольнице, то ли психбольница за окном.
Это в данном случае примерно одно и то же, потому что мир описывается как довольно безумный. И для этого описания слова к ней возвращаются. Картина за окном красочная и жесткая, в духе некоторых стихотворений немецкой поэтессы Сары Кирш. Заканчивается все котиками – жизнь продолжается, все не так ужасно: это, может быть, самая слабая часть текста: котиками можно закончить любую трагедию (но здесь я придираюсь).
Вопрос в том, как читать этот текст.
Если его представить себе как сценарий короткометражного фильма – это очень хорошо. Я очень четко представляю себе и героиню, и отдельные кадры – психбольницу, богадельню, маленьких собачек и алкоголиков.
Еще я мысленно убрал деление на строки и расставил знаки препинания – получилась отличная малая проза.
Но если это стихотворение, то его слабая структурированность играет против чисто художественного впечатления. Тогда важнее впечатления становится центральный сюжет – конфликт женщины с репрессивной средой и навязанными ей паттернами. Тогда возникает вопрос – насколько это оригинально в контексте русского фем-письма и мировой поэзии? Я в этом совсем не разбираюсь и оценить не берусь.
После публикации рецензии мне подсказали, что это стихотворение – об утрате близкого человека. В мою защиту могу сказать, что прямых намеков на это в тексте нет. Однако получился любопытный пример того, как легко попасть впросак, пытаясь интерпретировать стихи.
12.
Вчера я посетил круглый стол, где эксперты премии «Поэзия» делились своими жизненными тяготами и сомнениями. Мне-то казалось, перед ними простая задача – выбрать лучшие стихи из списка на свой вкус. Но, с точки зрения экспертов, произошла катастрофа. Премия разрушила все привычные подходы, надо хвататься за голову, куда-то бежать. Как сравнивать стихи – ведь есть столько разных поэтических стратегий, языков. Один эксперт сказал: «Я не понимаю, что такое выдающиеся стихи. Может быть, это самые скандальные?» Хотелось обнять, ободрить его. Вопрос собственного вкуса не прозвучал – эксперты не пользуются таким устаревшим неточным инструментом. Еще один эксперт в кулуарах признался, что читать все стихи из списка не будет: он и так знает, кто хорошо пишет. Я счастлив, что в силу среднего ума у меня такой проблемы нет. Мне не западло прочитать весь список и выбрать лучшее – по-моему, это элементарно.
Впрочем, довольно об этом. Посмотрим стихотворение Ксении Букши и попытаемся понять, выдающееся ли оно.
Стихотворение написано очень просто, а сказано в нем очень многое – и веско. Но если я начну интерпретировать, то получится школьное рассуждение о природе любви к родине, а это чувство мне в силу тройной эмиграции дается сложно. Лирическому «я» тоже непросто – ему пришлось спрятать свою страну в плюшевую игрушку и потом беречь ее от Большого Другого, который уже стучится в дверь.
Собственно, в основе эстетического эффекта на содержательном уровне лежит фокус-покус: достаточно заменить слово «страна» на слово «мишка» – и уже перед нами обычная история об эскапизме в инфантильный фетишизм. Но со словом «страна» все становится совсем другим.
Мне очень нравится, как это стихотворение организовано ритмически. Его нужно обязательно читать вслух. Каждое важное слово этим ритмом подчеркивается, отделяется дыханием от других. Ясная архитектура стихотворения простроена также повторами и внутренними рифмами. Это стихотворение, которое хорошо себя понимает. В одном месте сбивается – «уронил в грязь, потом надушил», но и это здесь хорошо: как будто обычная бытовая речь прорывается на мгновение.
Откладываю в личный шорт-лист.
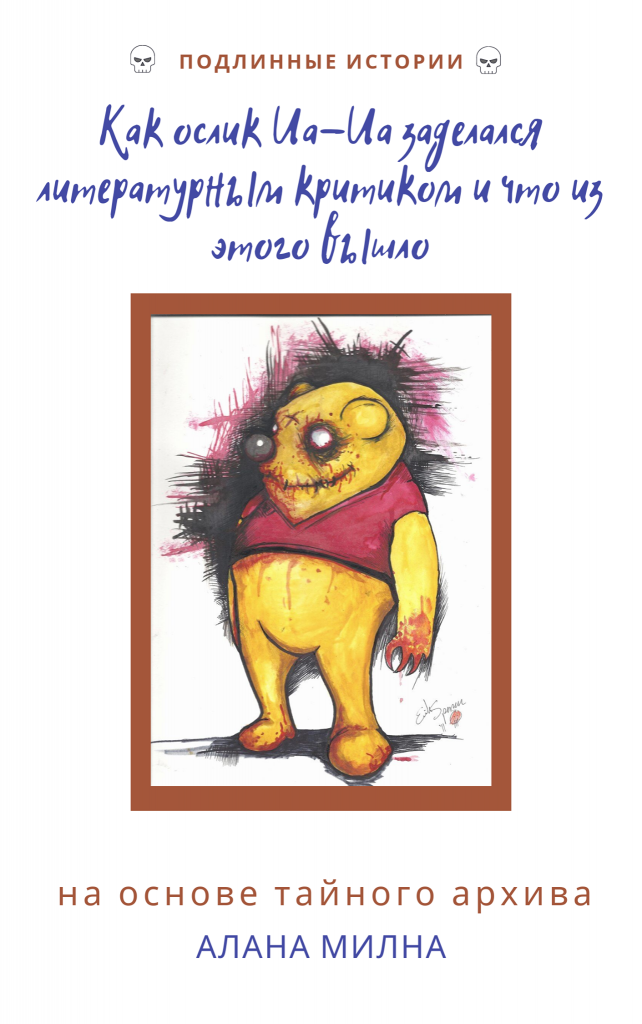
13.
Очень сложное стихотворение номинировано на премию «Поэзия» у Игоря Булатовского. Текст обращен внутрь себя и пишет сам себя, наблюдая собственное письмо – я бы вряд ли понял это сам, если бы не сжульничал и не спросил автора. С этим ключом уже можно пытаться читать, без него – тяжело.
Тут есть где порезвиться филологу и философу, поговорить о том, как речь продолжает себя, как возникает «Большая вещь» (своего рода «Большой Другой») – огромное репрессивное стихотворение, которое больше самого автора, но обыкновенному неискушенному читателю, который сверяет себя с текстом, тут почти нечего делать.
Что-то расшифровать я смог примерно после десятого прочтения – и то я не уверен, что сделал это правильно. Сначала возникает рассказчик, созданный искусственно из разных голосов и идентичностей – «огородное пугало», «циркач на ходулях», «два шагающих колокола, а выше – тряпка на палках». Это существо – огромное и смешное – идет по миру-супермаркету культуры, в котором играют дети, и ищет свое предназначение. Небольшая цитата (из наиболее интуитивно-доступной части стихотворения):
Дети выходят из школы с горбами смысла
на разноцветных куртках, пинают снежные
черепа, поскальзываются на бегу,
забрасывают горбы в сугробы. Мослы
света под стеной супермаркета. Тележки
катаются под ветром, давя голубей.
Это и есть целое. Супермаркет. Здесь
можно найти счастье. Надо только набрать
полный рот слюны, чтобы как-то склеить ветки,
крики детей, узоры шин, рыжую супесь
на льду, бомжа, примерившегося посп(р)ать,
и обязательно — мелкий сквознячок света.
Можно размножаться, высиживать, кормить,
можно даже изобразить себя птицей.
Какой? Ласточкой? Нет. Конечно, вороной.
Крепкой морщинистой лапкой ходить по миру,
частым сердцем стучать в бирюзовые яйца,
синим глазом держать на оси свой простор.
Сама метафора супермаркета понятна – именно так выглядит история и литература с точки зрения постмодернизма. В этом супермаркете можно набрать себе корзину смыслов и построить из них новое произведение.
Всю дорогу стихотворение Игоря Булатовского оперирует очень зримыми и конкретными образами «ботинок, рваный, набухший, лежащий в грязи, а еще ржавая бочка», «тысячи пивных стеклышек, вбитых в мерзлый грунт» – эта вещность, конкретность держит текст близко к земле, не дает превратиться в абстрактный спектакль. В финале стихотворения возникает Большая вещь как исполинская снежная туча, которая смотрит сверху вниз на нашего рассказчика-пугало, казавшегося раньше огромным. И пугало уходит под снег.
Процитирую самую концовку, очень она хороша сама по себе. Это как раз момент, когда Большая вещь смотрит на пугало:
И видит она пугало в зимнем саду
над ядрами дикой ледяной капусты,
под пулями вишен, створаживающих кровь,
на плече у пугала сидит какаду,
голова и туловище у него пусты,
в них солома и звуки выученных слов.
Пугало смотрит, как вокруг растет сугроб,
снег заметает штаны, подступает к горлу,
деревянное горло произносит: «Ик».
Светает. Дети идут в школу. Их горбы
полны зябкого смысла. У ворот школы
их встретит мертвый одноклассник-снеговик.
Вероятно, отсюда можно извлечь тем больше, чем лучше читатель разбирается в проблематике современной философии и готов накладывать стихотворение на ее фреймы. Как это читать человеку с другим бэкграундом – мне трудно себе представить. Наверное, никак.
Мне ближе другие стихи Игоря Булатовского – короткие, растущие из игры со словами, рифмами, собственной внутренней формой, но не могу не признать, что это заявка на победу, несмотря на объем и абсолютную герметичность этого текста. Здесь демонстрируется весь огромный арсенал этого замечательного автора, одного из моих любимых сейчас. Полный текст «Большой вещи» доступен на сайте премии, см. ссылку в начале статьи.
14.
Стихотворение Дмитрия Быкова, выдвинутое на премию «Поэзия», очень странное вот в каком отношении: это гибрид его лирических стихотворений и политических памфлетов. Оно с виду лиричное, но почему-то нашпиговано какими-то «неоконами», «анархистами ПОУМа» и инсинуациями по поводу Испании позднего Франко, видимо, по принципу его сходства с путинским режимом, который напрямую не упоминается: наверное, так Быков обходит закон «о неуважении к власти».
Автор демонстрирует владение слогом, недюжинную эрудицию и здоровое чувство юмора – а больше об этом совершенно нечего сказать. Это, скорее, спортивное достижение, нежели стихотворение. Самый близкий к такому Быкову автор – рэпер Оксимирон (в рамках своего жанра, конечно).
При этом я никоим образом не разделяю принятую в литературном сообществе иронию в сторону стихотворений Дмитрия Быкова! Как-то я даже был свидетелем того, как один его хулитель мог цитировать из Быкова наизусть целыми кусками – ну разве не парадоксально? Мое мнение по поводу Дмитрия Быкова такое: это прекрасный виртуозный лирик, который, к сожалению, растрачивает свой талант на всю эту рифмованную фельетонистику. Я предпочел бы читать новые и новые лирические стихотворения. А пока я могу рекомендовать прекрасную статью Ирины Сурат о Быкове, которую можно найти в Журнальном зале.
15.
Следующая наша встреча – со стихотворением Дмитрия Веденяпина. Мы проживаем два самых ярких момента жизни человека по имени Изя. Было ли что-то между ними, или Изя существует только в эти мгновения – тайна. Ни Изе, ни нам ничего не известно, автор тоже не претендует на знание.
Тебя не будет – теду бе нябет: тревожное превращение слов, похожее на какое-то каббалистическое заклинание. Для нас Изя возникает, когда подпрыгивает на кровати, а потом – привстает на локте. Точно уловленное движение, очень сильное именно здесь, в последней строчке. Отчетливое стихотворение.
Опять за горло его схватили железной хваткой,
Опять сверкнули в углу над шкафом клыки и когти.
Будь Изя прежним, подпрыгнул б снова в своей кроватке,
А этот просто, держась за сердце, привстал на локте.
Это очень характерно для Веденяпина – жизнь как череда отдельных фотовспышек, а не связная история. История – всегда лукавство: мы пересоздаем себя каждый день из памяти и привычек. По правде говоря, есть только эти кадры: что-то из детства, что-то из института. Кадры, не всегда значимые для формальной истории: чья-то спина, чей-то запах. Это точно схвачено в лирике Дмитрия Веденяпина, в этом ее подлинность.
Таким стихотворениям претят спецэффекты формальных изысков и развесистых метафор – они были бы неуместны. Главное – точность лексики, ритма, синтаксиса. Раби Зусе надо совпасть с самим собой – и больше ничего. Иногда автор как будто иронизирует над собственной манерой: «Вот солнце светит, вот папа ходит, вот мама гладит». Это стихотворение вообще пронизано нежной иронией – и по отношению к Изе, и к читателю. Оно даже ложится на вальсирующий гитарный метр в три четверти.
Не скрою, ранние стихотворения Дмитрия Веденяпина из «Травы и дыма», на которых я сам вырос как автор, мне нравятся больше, а манера последних книжек кажется слишком суховатой. Но, тем не менее, настоящую поэзию я вижу примерно так, как ее делает Веденяпин. Безусловно – шорт-лист.
16.
Перехожу к Алине Витухновской. Очень эгоцентричное стихотворение, на грани нарциссизма. Лирический субъект не то что не умер, а даже не подрос. Я то, я се, мир крутится вокруг меня. Вспоминается Михаил Ромм: «я и девочка», «я и белочка» – но здесь «я и Бог».
Когда моя «душа» уходит в пятки,
мне кажется, я самости лишен.
Моя «душа» со мной играет в прятки.
Стою в углу, слеп, честен и смешон.
Стою в углу, где дует в щели смерти,
где мне до ста назначено считать.
Мой бог смешной приказывал: «Не верьте!»
И я тогда не смел ему внимать.
Очень резкие и одновременно неловкие движения у этого стихотворения. Оно угловатое, как перевод с французского «проклятых поэтов», что-то из Вийона в версии Эренбурга, наподобие этого:
Я знаю, как на мёд садятся мухи,
Я знаю смерть, что рыщет, всё губя,
Я знаю книги, истины и слухи,
Я знаю всё, но только не себя.
Если даже это такая стилизация, для меня это мало что меняет… Чувство языка, мне кажется, изменяет автору. Есть очевидные ритмические огрехи, например, возьмем строчку: «Стою в углу, слеп, честен и смешон.» Здесь «слеп, честен» слипается в «слепчестен».
Очень суетливое стихотворение. Я поэзии, во всяком случае – в моем понимании, здесь не нахожу. Нахожу какую-то риторику. Сентенции, декларативность…
Так надо как дано. Дано как надо.
И хорошо, что некого винить.
И после смерти не бояться ада.
И про «хорошо, что не», было лучше у Георгия Иванова: «хорошо, что нет России, хорошо, что Бога нет».
Мне кажется, так пишут на литературных семинарах для старшего школьного возраста.
17.
Итак, Татьяна Вольтская, стихотворение про «Бессмертный полк». Осторожно выскажу следующее предположение: кому в премиальном списке нравятся Дмитрий Быков, Алла Боссарт и Алина Витухновская, тем должно понравится и это стихотворение. Здесь все правильно сказано, но очень много риторики, и само стремление все это сказать именно стихами и вот с такой навязчивой «пронзительностью» отправляет нас в 60-е годы прошлого века. Судя по премиальному списку, в таких текстах существует некая потребность…
Насчет «бессмертного полка» все очень убедительно, есть множество находок, зримых метафор – но все это подано крайне неудачно. Стандартный ритм, экзальтированная интонация – и много просто плохих строк. Самый явный пример:
И мертвецы над нами тихо плывут вперед,
В будущее. Молчали деды — придя с войны.
Вот это «в будущее», перенесенное в следующую строку здесь просто мозолит глаза.
Все перечислять я не буду, мы не в Лито.
Хочу, чтобы меня правильно поняли. Удачные фрагменты есть. Чего стоит только строчка: «Все мы на запах Победы слетаемся, как на мед». Вне всего остального это очень хорошо.
Стихотворение напоминает прыгающую по ухабам, но крепко сбитую телегу. То отойдет колесо и покатится за угол, то возничий свалится на землю и уснет. Но с большими или меньшими приключениями телега доберется до пункта назначения. К сожалению или к счастью, чтобы это увидеть, надо обладать чувством слова. Для многих читателей такие нюансы не важны. Главное, груз доехал и телега не развалилась, то есть присутствует идейно правильное содержание в экологической упаковке.
Татьяна Вольтская – профессионал, у которой я видел очень достойные вещи, просто данный конкретный текст мне не кажется удачным.
18.
Стихотворение Марии Галиной сразу помещает нас внутрь разворачивающегося взаимодействия двух людей, переживающих невидимую жизненную драму. Эти люди обмениваются репликами. По сути это небольшая пьеса. Главное в этой пьесе остается за кулисами.
Стихотворение обращается к известным сюжетам – мальчиш-кибальчиш, всадник на бледном коне, воздвигшийся град – это такие огромные обломки скал культурного багажа, которые сразу расширяют пространство стихотворения целыми мирами. И небольшая кухонная мизансцена вырастает до библейского масштаба.
Сначала нам предлагается как бы романтическое двоемирие: жена видит вокруг признаки апокалипсиса, муж все игнорирует и сосредоточен на семейном быту. Но в последней строке прорывается его собственное безумие – или, наоборот, ясное зрение. То, что жена видит как страшный кошмар, мужу является как прекрасный град и спасение народов, но это как-то пугает еще больше – стоит чуть дорисовать эту картину и понятно, что спасение народов потребует массовых жертв.
Динамика диалога мне кажется психологически достоверной – именно эта динамика ответственна за сильное художественное впечатление. И, конечно, ритм.
Сюжет на самом деле архетипический для русской интеллигенции: одни поэты видели в революции террор и конец света, другие – освобождение и новый мир. Собственно, можно спроецировать это и на недавнюю ситуацию, когда протест многим людям старшего поколения казался предвестником бед – они считали, что от хаоса страну удерживает только действующая власть. А трилобит, выползающий в стихотворении из океана, – тот же звягинцевский левиафан. Но это я уже немного тяну за уши.
Чуть споткнулся на строчке «им капли крови… лежат в пыли», может быть, лежат «для них», а не «им»? Но это мелочи.
Зато очень удачно нарушается в одном месте чеканный ритм живой разговорной вставкой: «Ты бы протёрла её, а то пригорит, и тогда уж совсем не отскребёшь…»
Стихотворение, мне кажется, очень характерное для Марии Галиной и показывает ключевые особенности ее поэтики: в повседневную ситуацию монтируются фантастические и мифологические элементы – так же работает, например, Михаил Дынкин, или наоборот – изначально фантастическая ситуация раскрывается как бытовая, но главное – этически напряженная. Похожий прием использует Федор Сваровский, но просодически все они между собой сильно отличаются.
Может быть, здесь уместно поговорить о профессионализме в поэзии… Конечно, в обычном смысле его не существует: поэт не может зарабатывать поэзией. Но можно говорить о профессионализме в другом контексте – как об овладении определенной техникой, когда особенность поэтики доведена до готового приема. Хорошо ли это? Мне кажется, скорее нет, потому что поэзия возникает там, где нет «готовых слов», как чудесная и нежданная гостья. Это сомнение касается, разумеется, не только «поэтического нарратива» и «нового эпоса». На днях Анна Голубкова написала о том, что и «расшатанная силлаботоника», и «густая метафорика» (я добавил бы сюда «сломанный синтаксис») стали просто общим местом. С этим приходится согласиться. Но уверен, что поэзия, как вода, найдет себе трещину в речи и хлынет в нее.
Но это мысли вслух безотносительно Марии Галиной – просто пользуюсь поводом… Стихотворение, на мой взгляд, очень сильное и могло бы претендовать на победу.
19.
Стихотворение Анны Глазовой для меня – пример энигматического письма. Перед нами словно перевод эзотерического текста с какого-то древнего языка. Кажется, что мы что-то понимаем, но никогда до конца. Окончательная тайна остается сокрытой от непосвященного и даже от адептов нижнего круга.
Здесь можно поговорить об уровнях языковой компетенции. Скажем, текст попсовой песни находится ниже языковой компетенции среднего обывателя. Современный поэтический текст – несколько выше. Текст Анны Глазовой находится выше языковой компетенции даже среднего литератора (поэтому с этим отзывом я рискую попасть впросак).
Лучше, конечно, читать подборку Глазовой, опубликованную Ильей Данишевским в «Снобе», полностью. Тогда язык этой поэзии открывает какие-то интуитивные ключи к своему пониманию. Контексты, объяснения в этих стихотворениях как бы отрезаются, чтобы осталась только поэтическая ткань. Герметизм текста напоминает раннюю Ольгу Седакову, а интонационный строй – стихи Екатерины Соколовой и, может быть, Андрея Егорова.
Ритм речи, ее семантические лакуны, подчеркиваемые паузами в конце строк, создают особую значительность, почти молитвенную интонацию этого текста. Однако я бы никому не советовал повторять за Анной Глазовой.
К кому обращается субъект речи, когда говорит «я ваш должник», «мы – целое» – это до конца не понятно. У разных интерпретаторов может собраться совершенно разная картина. За счет этого текст, вероятно, остается живым, а не «полезным и мертвым». Ведь любая интерпретация – это убийство.
Можно предложить такое прочтение: это текст о послесмертии. Человек, животное, дерево распадаются и снова собираются. Это природный процесс, но есть и противоположный ему – творческий: когда человек «сажает – копает, растит – строгает» он превращает то, что было живым и одним целым, в полезные предметы. Например, в патефон, который способен воспроизводить музыку. Или в интерпретацию стихотворения.
20.
Однажды мне уже довелось высказаться о подборке Дмитрия Гаричева, в которую входило и стихотворение, выдвинутое на премию «Поэзия». Было это на мероприятии «Полет разборов», в котором мне не нравилось все – публика, атмосфера, кто говорит о стихах, как о них говорится – так что с мероприятия я сбежал, а свой отзыв прислал смс-кой. Звучал он так:
«Здесь перед нами совершенно неуязвимый литератор, который научился очень надежно, профессионально, плотно укладывать каждую строчку, но именно это и вызывает у меня некоторые сомнения. Мне кажется, тут не хватает воздуха. Поэзия, на мой взгляд, это вещь уязвимая, она связана с некоторой ошибкой, неловкостью, прорехой в мироздании. А не с четким, уверенным литературным дизайном».
Сурово получилось, и зачем было это писать, мне сейчас непонятно. Ясно же, что Гаричев сейчас, когда царит поэтическая безответственность, один из сильнейших авторов вообще – а я ставлю ему в вину, собственно, мастерство слова. Впрочем, давайте посмотрим на стихотворение:
* * *
что гайдар ночей не спал, а мать кормила
грудью губернаторских собак
за пакет крупы, осколок мыла,
чтобы в бургеркинг или макдак
шли теперь все выбл.дки из тыла —
в это мне не верится никак.
или чтоб с ветвями краснотала
ради поруганья от ментов
выдвигались против капитала
несколько гуманитарных ртов —
нам носили хлопья из подвала,
тоже примириться не готов.
страшно ждать заказа, но сдаётся
общий счётчик, женщина смеётся
как ещё до обнуленья лет,
но и в забытьи не признаётся:
просто лучшего у мира нет.
будь же ласков, сядь же вместе с ней:
здесь твоя положена расплата
слаще крови пролетариата,
обморока школьного честней.
Лирический герой стихотворения (и книги, в которой оно опубликовано) – то ли солдат, вернувшийся с войны, то ли человек, с помощью рессентимента описывающий свой быт (второе вероятнее, так как в военных действиях автор участия не принимал). Его беспокоит окружающее фарисейство, мир «выбл..дков из тыла», «гуманитарных ртов» с их макдаками и митингами. Это такой собирательный Игорь Стрелков, ролевая маска со знакомыми усиками, чуть похожая внешне на Лермонтова.
Кстати, о Лермонтове: «Уж не жду от жизни ничего я…». Привет из культурной памяти. «Просто лучшего у мира нет» – поэтому и ждать нечего, как бы объясняет ролевой герой Дмитрия Гаричева. «И не жаль мне прошлого ничуть» – печально констатирует герой Лермонтова. «В это мне не верится никак» – похожей структурой фразы отзывается стихотворение Гаричева. «Но и в забытьи не признается» женщина за стойкой бургеркинга у Гаричева. А вот герой Лермонтова охотно признается: «Я б хотел забыться и заснуть».
Это все, конечно, про хрестоматийный гаспаровский «семантический ореол метра». Стихотворение четко укладывается в известное исследование пятистопного хорея, показывающее, что стихотворениям, написанным этим размером, присуща общность образного ряда. Ряд продолжается Пастернаком «Я один, все тонет в фарисействе» – эта фраза, по сути, – краткое содержание стихотворения Гаричева. «Но продуман распорядок действий,/ И неотвратим конец пути» – Пастернак. Гаричев: «страшно ждать заказа, но сдаётся/ общий счётчик» – та же неотвратимость и страшная механистичность мира (распорядок, счетчик).
Монтируя свой текст в этот ряд, Гаричев как бы сразу подключает свое стихотворение к истории литературы. Впрочем, ближайшие родственники этой лирики на оси времени расположены ближе к нам. Невероятной плотностью, обезвоженностью текста лирика Гаричева из этой книжки напоминает в первую очередь Алексея Цветкова-старшего:
ощупью до ближнего сортира
я дополз пока стоял состав
римма полуночникам светила
челюсти компостера достав
легионы огненных опилок
август раздувал над полотном
молодости тщательный обмылок
в зеркале клубился поясном
Тот же размер и тот же жесткий скептицизм и разочарование в мире. И «обмылок», выпавший из этого стихотворения прямо в текст Гаричева «осколком мыла». Этому же трамватически трезвому мироощущению вторят строки Сергея Гандлевского:
Мама, крепко спи под марши мая!
Отщепенец, маменькин сынок,
самого себя не понимая,
мысленно берёт под козырёк.
Я даже вижу, как стихотворение Гаричева читает Гандлевский, именно со своими характерными интонациями.
На все это можно ответить примерно следующее – ну хорошо, намеренно или нет, получился ряд мощных отсылок, стихотворение находится в диалоге с другими и задействует нашу культурную память, пишет поверх нее свой палимпсест – а разве это что-то говорит о качестве текста? Нет, конечно, во всяком случае, ничего плохого. Здесь и нельзя ни к чему придраться по большому счету.
Основная проблема этих стихов в том, что они слишком хороши. А писать надо сегодня, наверное, плохие стихи, а точнее, «плохие стихи». Но половина плохих стихов, создающихся сегодня, недостаточно плохи, чтобы достигать уровня искусства, а другая половина недостаточно хороши для преодоления усталости культуры – (с) Бильбо Бэггинс. Но об этом я уже говорил, и добавить, кажется, нечего.

Послесловие
Мне нравится, что я теперь – человек-литпроцесс: дышу, кашляю, блюю чужими текстами. Когда я занимаюсь сексом, я оставляю в женщине не семя, а стихотворение: она благодарит – спасибо, хозяин – я начинаю плакать от стыда, учить ее феминизму, а потом она учит меня… По телефону звонит Виталий Пуханов, молчит в трубку, но я слышу его дыхание, говорю, ну что ж вы, Виталий; он никогда не отвечает.
Иногда я участвую в круглом столе. У меня есть стол в форме безупречного круга, который не может существовать в природе. Я ложусь на него грудью, сплющиваюсь и становлюсь похожим на рыбу-каплю. Жена разбрасывает на мне свои дурацкие книжки, немытую посуду, ставит вазу с мертвыми орхидеями, кладет свои ноги. В этот день мне запрещено читать стихи. Это очень полезно – участвовать в столе.
Обычно стихи у нас на завтрак, обед и ужин, дочь я кормлю макаронами, остальное пожирают тараканы. Я поймал одного ночью, это оказалась старенькая литературная чиновница в какой-то вонючей шали, лосинах из девяностых, я убил ее без отвращения и похоронил за холодильником, где отколупнулся кусочек штукатурки. Иногда я проверяю, там ли она. Я знаю, она еще восстанет из мертвых и организует какой-нибудь жирный журнал – «Посевы» или «Печальный менестрель».
—————————————————————
Телеграм-канал автора:
t.me/russian_poetry_2019
https://tlgrm.ru/channels/@russian_poetry_2019